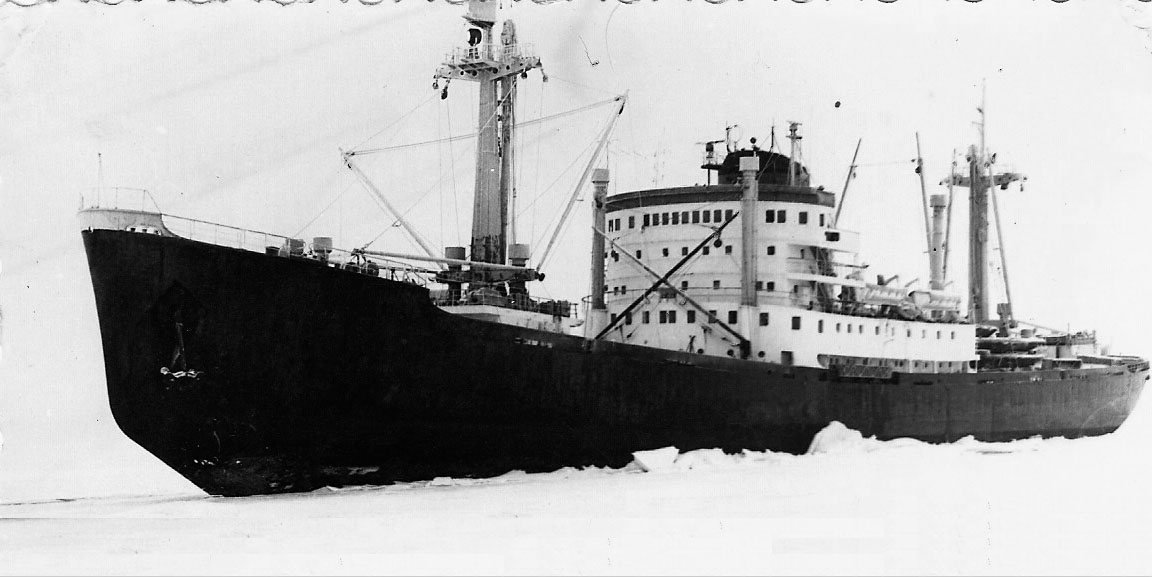Тот, кому посчастливилось жить и работать в отдалённых районах Дальнего Востока и Северов, где ему часто приходилось встречаться с представителями малочисленных народностей, хорошо знает о величайшей мудрости этих детей природы.
В суровых условиях борьбы за выживание в течение тысячелетий они сумели найти свои решения многих глобальных проблем человечества.
Хотя многие считают коренные народности туземцами, чуть ли не дикарями каменного века, их открытия очень часто опровергают фундаментальные научные труды маститых, известных всему миру, учёных. Возьмём самое простое и общеизвестное.
Уже не одно столетие, как всё цивилизованное человечество старается питаться по правилу: «Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу». Но этот канон может быть верен исключительно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Для тех, чья жизнь движение: охотники, таёжники, геологи — это правило не только неприемлемо, но и чрезвычайно вредно.
Стоит утром плотно поесть, и вы потеряли рабочий день. Ноги упорно не желают ловить ритм шага, повышенное потоотделение, отдышка и отрыжка, к полудню у вас уже нет никаких сил. То же самое в обед, один лишний сухарь и вам хочется, как можно дольше затянуть время привала. Когда всё же начнёте движение, вы потратите много времени, чтобы войти в рабочий ритм, а к вечеру вы выжаты как лимон.
…Согласно всем старинным трактатам, лучшими ходоками всего Дальнего Востока, считаются удэге. С кулём в четыре пуда (64 кг), на спинных рогульках, удэгеец легко проходит в тайге за световой день 80–85 км!!! Именно режим питания удэге, а не рекомендации современных учёных, принят за незыблемую основу всех геологов и таёжников.
Утром — лёгкий завтрак, в течение дня пять-шесть чаепитий с обязательным добавлением в чай сушёных плодов дикоросов. В обед, ни более двух сухарей, а обильный сытый ужин поздно вечером.
Первые дни, после плотного ужина, действительно тяжело засыпать. Но уже через пару недель, вы ощутите всю прелесть такого режима питания. Ваша выносливость резко возрастёт, вы уменьшите чуть ли не вдвое количество обязательных привалов.
Придерживаясь такого режима вы очень скоро научитесь управлять своим желудком. Аппетит будет появляться у вас лишь тогда, когда вы сами решите, что пора поесть. При этом, чтобы насытиться, вам будет нужно в десятки раз меньше продуктов чем раньше.
…Где бы вы не встретили представителей коренных народностей: в пустыне, тайге, тундре вы никогда не увидите у них рюкзака со съестными припасами. Но у них есть свои, просто фантастические рецепты поддержания жизнедеятельности человека. Причём единые для всей планеты земля.
Возьмите любую книгу об аборигенах: бедуинах пустыни, индейцах Америки, якутах России. Совершенно разные расы, но у всех аборигенов всегда есть маленький мешочек с высушенным до крепости гранита мясом.
Сушить мясо — дело хлопотное. Полевики-геологи сушат копчёную колбасу, подвешивая её на полгода возле печек. Колбаса приобретала крепость железа. Её рубили на пятачки плотницким топором и складывали в полотняный мешочек, который, как ладанку вешают на грудь, она с таёжником всегда.
В тайге ситуации, когда из-за обложного дождя или обильного снегопада нет возможности развести костёр, или когда вам надо обязательно идти, а сил уже нет, обычное дело — это тайга.
Вот тогда из мешочка извлекают пятачок сушёной колбасы и начинают его сосать. Обильная слюна быстро заполняет желудок, появляется ощущение сытости, а затем и бодрости, ноги сами идут веселей. Одной дольки, прежде чем размягчённую её разжуют и проглотят, хватает на два и более километров. Три-четыре дольки, и обессиленный человек «подкрепившись мясцом», легко и бодро пройдёт ещё 15–20 километров, и выйдет туда, куда шёл.
Практика доказала безоговорочно, ни какой шоколад, ни какие современные витаминизированные таблетки, питательные пасты, не могут идти в сравнении с эффектом сушёного мяса аборигенов, когда надо идти, а сил больше нет.
…Самая трудная и опасная дорога в тайге ни топи болот и чащобы леса, как считают многие, а валуны. Огромные, некоторые в сотни килограмм, они рассыпаны по берегам рек, подножью сопок, преграждают русла водных потоков. Идти по ним, или среди них, смертельно опасно. Казавшаяся недвижимой глыба, может обрушиться от малейшего толчка. Ведь после каждого дождя, или паводка, вода вымывает грунт из-под её основания. Приходится тратить массу времени и сил, обходя такие россыпи валунов. Так поступают все, кроме аборигенов Колымы.
Они поднимаются на вершину крайней глыбы, глубоко вздыхают, на мгновенье застывают, и …словно горный баран начинают прыгать с одного валуна на другой.
Всё быстрее и быстрее, и вот человек уже не прыгает, а летит над валунами, едва касаясь вершин ногами. Многие глыбы с ужасающим грохотом обрушиваются, но уже за спиной человека. Особенно это впечатляет, когда по такой цепи валунов абориген в считаные секунды пересекает бешеный горный поток.
Я смотрел на это — год, второй, третий, потом решился спросить у одного старого эвенка, в чём их секрет.
За последние сто лет представители малых народностей выслушали от русских столько язвительных насмешек своих быта и обычаев, что взяли за правило не отвечать на подобные вопросы, а просто добродушно непонимающе улыбаться.
Но все малые народы, очень чутки к добру, они никогда не забудут тех, кто им помог, спустя десятилетия. Этому эвенку, мы по пути подбросили на вездеходе железную печь к его новому зимовью.
«Послушай, отец, в чём ваш секрет? Мы, геологоразведчики, пробовали копировать вас; но у нас ничего не получается».
Старый эвенк, помня сделанное для него добро, объяснил мне: «Не надо думать ни о чём, а главное, не бояться. Ты поднимаешься на первый валун, глубоко вздыхаешь и смотришь туда, куда ты должен попасть. Ты прыгаешь на первый валун, и всё — ты летишь вперёд, и ты видишь, только конец пути. Под ноги ты не смотришь, они сами определят ту точку, следующего валуна, от которой они оттолкнутся. Ты летишь, если ты хоть на миг, оторвёшь свой взгляд от конца пути, посмотришь под ноги, вспомнишь об опасности — ты упадёшь. Потому что ты потерял веру в то, что ты можешь летать».
Два месяца, выбрав гряду валунов вдоль мягкой песчаной отмели, падать легче, я тренировал полёт. Старый эвенк, не обманул. Нужно было верить, и ни о чём, кроме своего полёта, не думать.
А вот это не удавалось. Я «пролетал» 10–15 метров, затем, помимо моей воли, взгляд переходил вниз, и я падал. Но на третий месяц я научился контролировать себя, и — «полетел». В конце сезона я сразил наповал весь отряд, «перелетев» на одном дыхании бешеный поток по валунам, а моим товарищам пришлось делать крюк в пять километров.
На следующий год я ещё несколько раз успешно совершил свои «полёты», но, или старый эвенк мне, что-то недосказал, или я его плохо понял. Все аборигены, когда перед ними возникал разрыв в гряде валунов, не снижая скорости резко сворачивали в сторону и, обойдя опасное место, снова выходили на первоначальное направление.
Я же «летал» по идеальной прямой, и дважды просто не смог перепрыгнуть разрыв в цепи валунов, и летел в воду. Но третья неудача навсегда отбила у меня охоту копировать аборигенов Колымы в их умении «летать».
Река в том месте, была метров 50–60. С берега, мне казалось, что разрывов в цепи валунов нет, но на самом бешеном потоке был большой разрыв, и я полетел в стремнину. Меня било о камни, крутило и, наконец, выкинуло на отмель. Когда я пришёл в себя, то ужаснулся: ни одного живого места, всё тело избито. Больше я не «летал»…
А вот о том, каким образом, безграмотные аборигены, сумели дойти до такого поразительного открытия. Способности человека, «летать» без контроля разума, я продолжаю размышлять до сих пор. Откуда они знают то, что неизвестно учёным? Ведь это не транс, не гипноз — это глубочайшее знание скрытых резервов нашего мозга. Уверовал — и полетел. Ведь пусть ни до конца, но у меня же получалось «летать» по прямой.
…Мудрость и гениальность решений аборигенов в самых простых вещах просто поразительна.
Попробуйте рискнуть предложить аборигену в подарок охотничий нож производства самой известной фирмы. Он, отказавшись, жестоко, но аргументировано высмеет ваш дар.
«…Красивая игрушка. А точить его, ты — однако, в Москву, или Германию, возить будешь?»
Охотники знают, что это такое свежевать зверя в тайге, а лося в особенности. Жало ножа «садится» моментально. Не один фирменный нож без алмазного круга наждака не заточишь.
Аборигену, не надо даже бруска, любой валун, вжик–вжик и его нож вновь остер как бритва.
Второе отличие: ни одна синтетика фирменных ножей «не греет» руку в мороз. При морозе минус 30–40 градусов, работая фирменным ножом, вы легко можете отморозить пальцы. Руку в мороз может греть, исключительно, ручка из белой берёзы. У аборигенов всё, чего может коснуться голая рука в мороз, из белой берёзы. Ручки ножей, пешни, топора, молотка, рогатины.
Третье отличие: если вы уронили свой нож в мутную воду, вы не должны его искать. У ножей аборигенов ручка намного легче лезвия, и их ножи становятся у дна вертикально как поплавок. Фирменные, у которых тяжёлая ручка, ложатся на дно, и вы можете легко порезать себе пальцы, ища его.
Наконец четвертое, почему не один абориген никогда не берёт в подарок фирменный нож. При схватке с медведем (а её вероятность любой попавший в тайгу, просто обязан держать в уме) шансы на то, что клинок фирменного ножа попав в ребро намертво увязнет в нём, 50 на 50, и вам конец. Лезвие ножей аборигенов всегда гибко, попав в ребро нож, скользнёт по нему прямо в сердце.
Если добавить к вышесказанному, что нож в тайге — это режущий инструмент на все случаи жизни: им выстругивают топорище, черпак, ложку, а конфигурация лезвий фирменных ножей, не позволяют этого сделать. То вы сами поймёте, как мудры и гениальны аборигены в своих решениях, делах, поступках.
У них нет, и не может быть ничего ошибочного, неверного, лишнего. Вся жизнь, весь бытовой уклад аборигенов, это чётко выверенный логический анализ. Причём они сумели вычленить самое действенное его звено. Придумать, улучшить, что-то из их тысячелетнего уклада жизни в тайге просто невозможно. Они гениальны, именно в своей, кажущейся простоте.
Поэтому никогда не спешите высмеивать то, что вам покажется необычным в быту или одежде аборигенов. Если вы этого не понимаете, ваш разум ещё не дозрел до осознания гениальности, а у аборигенов гениально всё.
Ибо за всем, что у них есть, стоят тысячелетний опыт и логический анализ их предков. Или просто — мудрость аборигенов. Познать всю глубину которой, нам, увы, ещё не дано.
Автор: Юрий Маленко.